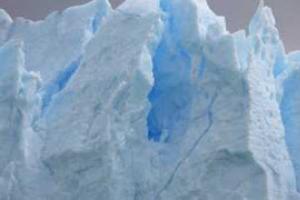10-го и 11 декабря в «Смене» пройдет Зимний книжный фестиваль. Кроме традиционной книжной ярмарки (к которой мы, к слову, подготовили два подробных рекомендательных гида - и ), на ЗКФ будут лекции видных российских ученых. Один из них - историк Андрей Зорин: в субботу он расскажет об эмоциональной культуре образованной части российского общества на рубеже XVIII–XIX веков (лекция состоится при поддержке премии «Просветитель»). Накануне фестиваля «Инде» расспросил Зорина об особенностях воссоздания эмоционального мира прошлого, Пушкине как воспитателе чувств и различиях в общественном статусе мужской и женской ранимости.
Андрей Зорин
доктор филологических наук, профессор Оксфордского университета, РГГУ и РАНХиГС. Член редколлегий журналов «Новое литературное обозрение», Slavic Review, Cahiers de Monde Russe. Сфера интересов – русская литература и культура конца XVIII – начала XIX века в европейском контексте, история эмоций, история образованного сообщества в России и СССР. Номинант на премию «Просветитель-2016» за книгу «Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века»; обладатель специальной награды «Просветитель просветителей»
Считается, что описание чувств и эмоций - прерогатива искусства. Как наука подходит к этому вопросу?
Наука исходит из того, что эмоции являются продуктом культуры. Через культуру мы получаем знания о чувствах и учимся чувствовать правильно с точки зрения общества. В этой парадигме можно выделить особые эмоциональные сообщества - группы людей с четко установленными регламентами чувствования. На футболе мы можем увидеть только две реакции на гол: радость болельщиков одной команды и досаду фанатов другой. Это и есть пример разных эмоциональных сообществ. Чувства находятся не только внутри человека - они являются частью его коммуникативного и межличностного пространства. Именно это свойство можно изучать в рамках гуманитарных наук.
Какие источники используют исследователи при изучении эмоционального мира прошлого?
В первую очередь мы смотрим на так называемые эмоционологические тексты - это такие тексты, в которых людям предписываются определенные эмоции. К примеру, Манифест о вольности дворянства (1762 год) давал представителям сословия право отказа от военной службы, однако предписывал, что в этом случае остальные дворяне должны презирать отказника. Мы видим, как на уровне государственного акта закрепляется определенное эмоциональное поведение. Современный пример - нынешний Уголовный кодекс, предусматривающий наказание за оскорбление чувств определенных категорий граждан. Такие тексты - источники первого ряда. Изучать эмоции можно и по произведениям искусства: в них содержатся эмоциональные матрицы проявления чувств, постигая которые, люди учатся языку чувств и культуре эмоций. Мы, как правило, знаем, что будем чувствовать в конкретной ситуации, потому что у нас есть эмоциональные матрицы, основанные на общественных нормах. Из этого следует, что мир эмоций изменчив и трансформируется вместе с нормами общества. Это сложно принять сразу: многие авторы исторических романов исходят из того, что люди прошлого вели себя так же, как и мы.
Можно ли вообще реконструировать чувства прошлого в современных категориях?
Не думаю, что здесь подходит слово «реконструкция». «Не достало бы чернил на свете написать и типографчиков напечатать впечатления одного дня», - писал Лев Толстой. Полная реконструкция одного переживания - гигантская работа, потому что человеческие переживания - глубокое явление. Но приблизиться к эмоциональному миру человека прошлого - выполнимая задача. В своей книге «Появление героя» я пытался достичь этого на примере одного человека - Андрея Ивановича Тургенева (1781−1802). Он меня интересовал как яркий тип раннеромантической личности, с присущим этому периоду эмоциональным кодом.

Вы описываете имперский период, когда российское высшее общество старательно перенимает европейские культурные и эмоциональные коды. А что было в стране до этого?
Преобразование элиты стало результатом целенаправленного усилия Петра I. Он полагал, что для появления нового русского европейца достаточно переодеть людей, научить их курить и пить кофе, - его мало интересовали чувства подданных. Безусловно, существовали более ранние традиции. Но их сложно исследовать из-за недостатка источников личного происхождения. Более того, мне кажется, что идея индивидуального переживания - продукт более позднего времени. Но общеэмоциональный фон можно воссоздать через изучение повседневных практик и ритуалов, в которых закрепляются в том числе программные эмоции эпохи. В книге «Появление героя» я описываю барышню, ушедшую в монастырь. При реконструкции мотивов этого поступка я увидел, что она одновременно была под влиянием церковно-житийной и западноевропейской литературы, которая в конце XVIII века была не особенно оптимистичной. На этом примере мы видим сложную комбинацию эмоциональных матриц в одном человеке. В начале XIX века европеизация элиты - уже свершившийся факт. Проводником ранней эмоциональной традиции остается только религия, которая продолжает занимать большое место в жизни людей.
Из ваших слов следует, что источники позволяют изучать только образованные сословия. Была ли культура эмоций сословно дифференцированной?
Народ оставался совершенной загадкой для господ. У дворян и крестьян были разные модели чувств, поэтому они по-разному переживали эмоции: условно говоря, для господ образцами служили французские романы, а крестьянин продолжал жить в традиционном укладе. При этом можно сказать, что дворяне отказывали крестьянам в чувственности. Николай Карамзин для того, чтобы переубедить дворян, считавших крестьян «бесчувственными животными», описал в «Бедной Лизе» крестьянку, которая переживает глубокую эмоциональную жизнь. И сделал он это в понятных дворянам формах - образ крестьянки Лизы стилизован под литературные вкусы тогдашней элиты.
Чувства и эмоции отражают социальные различия: система эмоциональных сообществ включает гендерные, возрастные, географические и профессиональные группы, и чем сложнее общество, тем сильнее дробятся его эмоциональные стандарты. Проявлением этого можно считать огромное множество возрастных, гендерных и других стереотипов в диапазоне от «мальчики не плачут» до «юность для любви» и «зрелость - время, чтобы остепениться».
Как менялась социальная приемлемость мужских слез в русском обществе?
В XVIII веке слезы были нормой - герой моего исследования Андрей Тургенев в дневниках часто упоминает о своих слезах. Раннеромантическая культура выражалась в оппозициях мягкого и жесткого, холодного и горячего. Горячий, то есть пылкий, - это хорошо, холодный - плохо. То же самое с оппозицией жесткий - мягкий: благородная душа под действием жара должна плавиться, становиться мягкой. Слезы - естественное проявление растопленной души, противостоящей холоду и жесткости. Постепенно такому типу чувствительности приходит конец: трудно представить себе мужчину, у которого во времена расцвета романтизма увлажнились бы глаза от вида цветка. Герой романтической эпохи может заплакать только под действием тяжелого душевного потрясения или страсти. Дальше эта модель укреплялась, и в XX веке, на мой взгляд, табу стало сильно как никогда: маскулинная культура СССР сделала мужские слезы в принципе невозможными. Остался только один социально одобряемый контекст для мужских слез: смерть близкого человека. О возможности плакать из-за личных страданий не могло быть и речи - это стыдно и вообще «по-бабски».
Получается, мужские слезы связываются с «высокой» чувственностью и глубочайшими внутренними страданиями, тогда как женские воспринимаются как бытовое явление, не связанное с сильными переживаниями. Вам не кажется, что мужские слезы имеют больший общественный вес?
С одной стороны, так и есть - и это результат проникновения западной маскулинной культуры. С другой стороны, эта же культура до самого последнего времени сообщала нам, что женщина чувствует тоньше: мол, мужчина настолько простой и бесчувственный, что только сверхпотрясения могут выдавить из него слезу. Через разные требования к мужской и женской чувствительности в культуре фиксируется гендерная разница. Женщине предписывается быть эмоционально богатой и тонкой, а мужчине - сдержанным. Но в последнее десятилетие такая оппозиция сильно расшатывается.

Как соотносятся подлинные чувства и способы их репрезентации?
Я не разделяю эти понятия как оппозиции. Какие-то эмоции мы не проявляем, и они остаются незамеченными, но тот факт, что одни чувства выражаются, а другие остаются внутри, не делает внешнее выражение неподлинным. Есть четкие модели, предписывающие людям определенное поведение: чувство зависти, например, не является социально приемлемым, поэтому мы не можем его выражать. Для других чувств четко обозначены допустимые ситуации их проявления - дома, с друзьями, на публике и т.д. Поэтому нельзя делать выводы о подлинности чувства, основываясь только на его выраженности.
Как образом в культуре разграничиваются нормальное чувство и болезненная эмоциональность?
Это происходит через стандартные каналы: базовая мифология, ритуалы, искусство, в последнее время - СМИ и социальные сети. Я не занимаюсь социальными сетями, но наверняка лайки и смайлики недавно тоже пережили норматизацию. Они регистрируют, отражают и моделируют современную систему эмоций - вы лучше меня знаете о существовании ситуаций и контекстов, когда смайлы приветствуются, а когда - категорически неуместны. Но это общие тенденции, и нужно учитывать индивидуальный жизненный опыт каждого человека. Если приводить литературный пример, то Джейн Остин в своих романах прямо описывает собственную реакцию на ненавистные ей проявления сентиментальной культуры конца XVIII века. Она четко фиксирует базовые эмоции и эмоциональные модели своих современников и выносит им негативный вердикт. В ее текстах мы видим эту границу между нормальным чувством и ненормальной чувствительностью.
Можно ли сказать, что для Татьяны из «Евгения Онегина» средствами познания эмоциональной культуры были французские романы, которыми она зачитывалась?
Это действительно показательный пример. Татьяна выросла на сентиментальных романах XVIII века, и Евгению об этом известно - значит, он четко представляет эмоциональные матрицы поведения девушки. Для нее же Евгений, напротив, является загадкой. Поэтому во время первой встречи соотношение сил в паре неравное - он ее видит насквозь, а она не знает о нем ничего. Далее Татьяна посещает библиотеку Евгения и видит книги, которые он читает: Байрон, Гиббон, Руссо и так далее. При следующей встрече все меняется: Евгений для Татьяны абсолютно прозрачен, а она для него - уже нет. Но причина их различий, по Пушкину, еще в том, что Татьяна имеет отчетливую связь с народной культурой (так, как это понимал Пушкин), а Онегин был такой связи лишен. Пушкин сознательно описал ситуацию различия эмоциональных моделей, и в этом плане «Евгений Онегин» - роман о воспитании чувств.

Каким образом чувства регламентируются в зависимости от сферы их проявления - частной или публичной?
Чувства четко разведены по этим сферам, и регламенты чувствования - неотъемлемая часть эмоциональной культуры. Но границы подвижны и со временем стираются. Можем ли мы считать запись в личном блоге частным выражением чувства? И это только один пример того, как технологии делают границы проницаемыми. Кроме того, смена режимов может происходить сознательно. Яркие эмоции политика на публике - это понятная манипуляция, хотя искренность нельзя исключать полностью. Возможна и обратная ситуация: чувства намеренно прячут, и это также становится знаком для остального общества. Меня в свое время поразили аудиозаписи публичных речей Уинстона Черчилля: он произносил сильные и эмоциональные тексты ровным, ледяным и немодулированным голосом. Вроде все ясно: политик-аристократ демонстрирует совершенную уверенность в себе. Но, мне кажется, таким образом Черчилль прямо противопоставляет себя Гитлеру, который, как известно, был чрезвычайно эмоциональным оратором.
Можно ли сказать, что каждой эпохе присуща доминирующая эмоция?
Воздержусь от глобальных обобщений. В каждой эпохе существуют различные социальные типы и эмоциональные сообщества - в XVIII веке жили и меланхолики, и насмешливые вольтерьянцы, и глубокие мистики, поэтому мне кажется неправильным характеризовать целый век какой-то одной эмоцией.
Как в таком случае вы охарактеризуете феномен массовых переживаний? К примеру, когда полмира скорбит о смерти принцессы Дианы.
Ценности и эмоциональные модели имеют склонность к глобализации. История принцессы Дианы состоит из базовых архетипичных сюжетов: это сказка о том, как простая девушка стала принцессой и столкнулась с жестоким миром, который ее потом якобы и убил. Несмотря на то что реальное положение дел не соответствует фантазиям о Золушке, эта сказочно-сериальная модель оказалась достаточно универсальной, чтобы растопить сердца миллионов людей. И это интересный культурный феномен: смерть Дианы никак не повлияла на жизнь скорбящих, а английская монархия давно не имеет никакой политической силы, но эмоциональный отклик все равно был колоссальным.
Имеет ли под собой почву стереотип о мечущейся и страдающей русской душе в духе героев Достоевского?
Достоевский многому нас научил. Его появление обозначило гигантский культурный слом, вызванный кризисом дворянской культуры как элитарной. На смену приходит новая модель, основанная на более глубинных матрицах: прежде всего на идее, что масштаб греха определяет потенциал святости, то есть чем ты хуже сейчас, тем лучше можешь стать в будущем. Это совершенно неочевидный ход, но он интуитивно понятен человеку, выросшему в русской культуре. Русский человек верит, что страна его, может, и плохая, и становится хуже, но в каком-то мистическом будущем обязательно станет лучше. Базовая эмоция Достоевского - надрыв, сквозь который прорываются внутренние глубины. Но, мне кажется, сейчас такая модель уходит в прошлое: в мире социальных сетей и открытого типа общения нет запроса на «душевные глубины» и «прорывающиеся из бездн истины», нет культа глубины. И это не негативная оценка - просто мир меняется, что абсолютно нормально.
Иллюстрации: Данила Макаров
Куратор суперкурса онлайн-университета Arzamas « ». Автор книг «Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII - первой трети XIX века» (Москва, 2001), «Где сидит фазан… Очерки последних лет» (Москва, 2003) и «Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII - начала XIX века» (Москва, 2016). Публикатор Лидии Гинзбург, специалист по русской литературе и культуре XVIII–XIX веков; область интересов - литература и государственная идеология, история эмоций.
- Страница на сайте Школы актуальных гуманитарных исследований (ШАГИ)

Русские как греки
Как завоевание Константинополя стало центром религиозной, политической и культурной идеологии Екатерины II

Поэзия на службе русской экспансии
Почему поэт стал главным пропагандистом Русско-турецкой войны и что общего между спартанским царем Леонидом и Алексеем Орловым-Чесменским

Истоки крымского мифа
Как Крым заменил Екатерине II Грецию, был переименован в Тавриду и стал символом обновления и успеха Российской империи

Русская античность под крымским солнцем
Как Крым превратился в «цветущий рай», стал символом войны и отдыха и как крымская идея дожила с конца XVIII века до наших дней

Проект воспитания чувств
Как Екатерина II и Иван Бецкой создавали в Смольном институте европейского человека Нового времени

Странная любовь
Как попечитель Смольного института любил и мучил свою воспитанницу, но так и не сделал ей предложения

Роли старого вельможи
Как комедии Вольтера помогают реконструировать чувства, пережитые больше 200 лет назад

Интрига императрицы
Как Екатерина II поставила спектакль, чтобы выдать замуж актрису

Лев Толстой и власть
Как писатель стал радикальным анархистом и отказался от всего, что может сделать несвободным, - имущества, семьи и авторских прав

Лев Толстой и история
За что писатель ненавидел историю и как вышло, что его романы - исторические
Нельзя выбрать профессию на всю жизнь, формула «работать по специальности» давно устарела, обязательных знаний в эпоху интернета не существует, а главная проблема сегодняшних студентов - как отличить факт от фейка, считает литературовед и историк, профессор Оксфордского университета Андрей Зорин. В интервью «Теориям и практикам» он рассказал, что делать с переизбытком информации, какие факультеты должны умереть и почему его касается именно образованного человека.
*Беседа состоялась в Казани на Зимнем книжном фестивале , куда Андрей Зорин приехал при поддержке премии «Просветитель».
На YouTube можно увидеть гигабайты видео, где людям на улицах задают базовые вопросы из школьной программы и многие не могут на них ответить. Для вас как преподавателя это является критерием оценки студента?
Я не делаю предположений касательно того, что должен знать студент, потому что они не оправдываются. Это не значит, что студенты - темные и необразованные люди. Кто-то знает в одной области, кто-то - в другой, единые критерии оценки образования сейчас размыты. Легкая доступность информации, которая добывается одним щелчком, снимает проблему «что я помню, а что знаю». Речь идет о способности думать, видеть мир исторически, понимать какие-то вещи, находить информацию, работать с ней.
В подобной передаче какая-то девушка сказала, что Сталин жил в XVII веке: мне кажется, проблема здесь не в том, что она не знает, когда жил Сталин, а в том, что она не знает, что такое век. Это более серьезная вещь - ей непонятно, что такое история. Образование прежде всего должно быть ориентировано на понимание, самостоятельную работу с источниками и знаниями, развитие умственных и интеллектуальных навыков.
Кроме того, мы имеем дело с гигантским переизбытком информации. Колоссальная проблема сегодняшнего студента - он не может отличить минимально достоверную информацию от недостоверной вообще. Нет культуры различения фейка. Когда студенты мне сообщают исторический факт, я прошу их назвать источник - они теряются, потому что им непонятен сам вопрос.
То есть для них все то, что есть в интернете, - правда?
– По крайней мере, равноценно и равносильно. Раньше информации не хватало, ее нужно было раздать, а сейчас - гигантский переизбыток, нужно научить человека отфильтровывать, усваивать, обрабатывать.
Мечты про то, что интернет поможет распространить знания, не сбылись?
Никакая технология не обеспечит всеобщего счастья. Это все странные фантазии 60-х годов: будет термоядерная энергия - тогда все станут счастливы. Другой вопрос, что интернет - необыкновенно удобная вещь. Электричество не сделало человека счастливее, но сейчас нам без него трудно жить. Да, интернет помогает найти информацию, сокращает время на поиски; я работаю в одном из лучших университетов мира, у нас потрясающая библиотека, где за полчаса можно добыть любую нужную книгу. Тем не менее я читаю с монитора, это все-таки экономит время: более быстрые маневры, навигация по источнику, это повышает возможность самостоятельной работы с информацией, снижая роль посредников.
Еще одна проблема студентов, которую широко обсуждают, - короткая историческая память. Плохо ли это? И что с этим делать?
В какой-то степени. Эти люди родились и выросли после гигантского исторического разлома - для них все, что было до 1991 года, покрыто паутиной. Об этом много написано в русской литературе применительно к людям после 1917 года: то, что было до революции, они просто не понимали.
С одной стороны, ну, Атлантида утонула и утонула, а с другой стороны - это опасно, потому что провоцирует ностальгию, делает молодых людей падкими на фальшивые рассказы.
«Раньше информации не хватало, ее нужно было раздать, а сейчас - гигантский переизбыток, нужно научить человека отфильтровывать»
Не кажется ли вам, что высшее образование не понимает, как встроиться в рынок труда, и слабо понимает, зачем существует?
Проблема высшего образования - в том, что оно должно решать разные задачи одновременно, а некоторые из них - взаимоисключающие. Высшее образование не слышит потребностей рынка труда, но самое худшее, когда кто-то сверху говорит: «Больше нам не нужны экономисты - нужны инженеры». К тому времени, когда будут программы для подготовки инженеров, их обучат и выпустят, они перестанут быть нужны рынку. Очень неверная идея: проблему соотношения образования с рынком труда нельзя решить административными корректировками.
То есть некоторые факультеты давно должны были умереть?
Да. Например, нет никакого смысла тратить на журналистское образование четыре года. Журналистская программа - это хорошая добавка к какому-то качественному гуманитарному, естественно-научному или политическому образованию; к какому-то фундаментальному базовому образованию достаточно добавить год, а то и семестр журналистских навыков - этого будет достаточно. Я наблюдал это зрелище в 90-е годы в РГГУ, когда все новые медиа были заняты нашими выпускниками. Журналисты были просто неконкурентоспособны рядом с выпускниками историко-филологического факультета, людьми с живыми мозгами, которых быстро научили журналистике.
Я воспитывался в такой идеологии, где ты учишься для того, чтобы выбрать себе профессию. Сейчас ясно, что ситуация с «профессией на всю жизнь» изменилась. Более того, постоянно повторяющаяся формула «по специальности или не по специальности» - это вообще ерунда. 80% выпускников не работают по специальности - это стандарт, само словосочетание «работа по специальности», видимо, уходит из нашего обихода, потому что рынок труда меняется с фантастической скоростью. Поступая в учебное заведение, человек не может знать, будет ли востребована его профессия через 4–5 лет. Поэтому обучение становится постоянным, возникает необходимость в обучении и переобучении, и это создает совершенно другую логическую ситуацию.
Понятно, что это пока небольшой феномен, но сайты и издания, которые занимаются популяризацией науки, - это результат того, что люди тянутся к самообразованию? Стоит ли университетам призадуматься?
Университеты упустили огромный рынок, они не видят гигантской потребности, находящейся рядом, и этот рынок заполняется инициативами. Хорошим университетам было бы что предложить в области популяризации программ - я сейчас пытаюсь наладить сотрудничество между замечательным сайтом Arzamas и университетом, где я в Москве работаю. Может быть, получится, и это станет пионерским проектом в области сотрудничества между университетом и неформальной образовательной просветительской программой. У меня есть чувство, что университет из-за косности и консерватизма без боя сдает огромный рынок.
Университет, завоевывая этот рынок, должен подстраиваться под требования миллениалов - короткие тексты, видео? Или умение читать длинный текст все еще важно?
С одной стороны, высшее образование должно учитывать мнение аудитории, с другой - способность прочесть длинный текст - это очень важная наука. Мы с моими коллегами в РАНХиГС разработали программу Great Books, в которой студенты должны за 4 года прочитать 21 книгу из разных областей знания - художественной, философской, экономической. Все это раскидано по семестрам, но читать книги нужно целиком. И это дает замечательный эффект: я вижу, как наши первокурсники с полным чувством собственного достоинства при встрече со своими одноклассниками говорят, что уже читали «Республику» Платона. И это совершенно не противоречит тому, о чем вы говорите, - короткому мышлению, способности быстро переключать внимание и прочее.
В работе с информацией и с источниками, о которой вы говорили, очень важен фактчекинг. У меня такое ощущение (я замечал это в дискуссиях об истории), что факты отходят на второй план и становится важнее, к кому слушатель испытывает эмоциональную симпатию - и неважно, что человек говорит.
Это вообще природа человека: тот, к кому ты расположен, кажется тебе более убедительным. Тем не менее любой разговор исходит из того, что есть зона, по поводу которой дискуссии быть не может. Можно спорить, было ли Бородинское сражение победой русской армии или поражением - это абсолютно легитимные разные точки зрения. Но нельзя спорить с тем, что русские войска в битве отступили и сдали Москву; если говорить, что этого не было, то спорить бессмысленно. Вполне допустима точка зрения - ее отстаивал Лев Толстой, - что это была величайшая победа, которая стала в русской историографии господствующей. Очень может быть. Тем не менее было решение отходить, Москву оставить, а французы были разгромлены и отброшены за государственные границы Российской империи после этой битвы. Есть факты, и если мы не признаем их логики, то нам не о чем говорить.
А что делать с фактчекингом, когда к истории обращаются, например, политики? Нельзя ведь в прямом эфире, например на дебатах, проверить достоверность их слов?
Правильно - этим эффектом пользуются политики на протяжении многих лет. На это есть экспертное сообщество - правда, оно находится в плохом состоянии и, отчасти по собственной вине, перестало вызывать доверие.
Оксфордский словарь выбрал словом 2016 года «post-truth», то есть «постправда», «после истины». По подсчетам американских журналистов, 70% из того, что в предвыборной кампании говорил Дональд Трамп, было или просто ложью, или частичной ложью. Интересно то, что огромная часть голосовавших за него знают, что он говорит неправду. Врунам верили всегда, но интересно то, что теперь вруну верят, зная, что он врун. Это другое отношение к правде и к реальности, в котором есть много опасного.
*В 2016 году на премии «Просветитель» Андрей Зорин получил специальную награду «Просветитель просветителей» за книгу «Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII - начала XIX века»
О вашей .* Вы говорили, что, изучая архив Муравьева, обнаружили, что он испытывает одновременно две эмоции, потому что является семьянином и дворянином, по-разному реагируя на события, которые происходят в его жизни. Как вам кажется, случается ли то же самое сейчас в интернете, отличается ли образ человека онлайн и офлайн?
Офлайн- и онлайн-соотношение - это частный случай. В книге есть теоретическая модель, в которой я стараюсь описать ситуацию конфликта разных ценностных и эмоциональных систем. Человек все время живет «с этой стороны так, а с этой - так», один и тот же человек может себя ощущать донжуаном, покоряющим женские сердца, романтически влюбленным в одну женщину, да еще и верным семьянином - все это одновременно. Вопрос в том, до какой степени у него есть потребность быть единым, до какой степени ему легко переходить из одной зоны в другую, как он навигирует внутри них. Здесь всегда интересна конкретная навигация человека в условиях «между».
Вы также писали о влиянии текстов разных произведений на эмоции человека, когда он примеряет на себя какого-то героя. Сейчас много говорят о конкуренции книги с сериалами, телевизором. Поп-культурные герои тоже влияют на эмоции человека?
Конечно, просто я писал о литературной культуре, но вообще институты, производящие набор символических образов и чувств, которые человек потребляет, разнообразны: искусство, литература, мифология, религия, идеология, ритуальные практики, повседневная жизнь и, конечно, в последнее десятилетие - СМИ. Очевидно, что они оттесняют традиционные книжные образцы на второй и третий планы. На сегодняшний день книга почти перестала функционировать в качестве значимой эмоциональной матрицы; может быть, серьезное кино еще функционирует в этом плане, а литература - не уверен.
Людям в принципе все равно - документальная или художественная книга, они в любом случае воспринимают это как поведенческую роль?
Документальная литература по своей природе менее к этому приспособлена, потому что она, а тем более документальное кино, - это то, что заведомо происходит с кем-то другим. Весь эффект художественного произведения - в отождествлении себя с героем; ты смотришь на него и воспринимаешь рассказ о другом человеке как рассказ о себе. Сделать это с героем документального произведения можно, но гораздо труднее, потому что документалистика привязывает к факту, четко тебе указывает, что разговор не о тебе, а о каких-то других персонажах.
«Врунам верили всегда, но интересно то, что теперь вруну верят, зная, что он врун. Это другое отношение к правде и к реальности»
В каком отношении находятся эмоции и слова, которые их описывают? Например, в татарском языке есть несколько слов, которые, как считается носителями, не переводятся на другие языки. Почему так происходит? Народ думает, что у него есть уникальные эмоции?
Я не касался лингвистической стороны, у меня ничего не написано о непереводимости понятий. В книге употребляется слово «переживание», которое, кстати, не переводится на английский и французский языки, хотя в русском языке является калькой с немецкого. Таких случаев непереводимости много, но в слове могут конденсироваться важные эмоциональные матрицы: такое количество работ написано о русской тоске как специфически непереводимом переживании, культурном образе, который стоит за этим чувством. Есть близкие по смыслу слова, например английское longing, но это не вполне то.
Другое дело, что слово как таковое редко может служить эмоциональной матрицей, словообразцом для восприятия. Слово очень абстрактно - важнее не лексема, а случай употребления. Мы не просто так думаем о любви, а слышим использования этого слова, и какие-то конкретные использования. В XVIII–XIX веках, например, формула «Я вас люблю» означала предложение руки и сердца, и за этим не было никакого другого варианта, точка. Сейчас это словосочетание не имеет такого значения: если ты соберешься предложить руку и сердце, то тебе надо говорить какие-то другие слова, эти не годятся.
Связь такая есть, об этом много написано - если только мы не считаем, что человек, который не принадлежит к этому народу, не способен испытывать это чувство. Конечно, он способен. А то, что для этих чувств языковое сообщество нашло специфическое слово, указывает на то, что для него оно может быть значимей, чем для других людей.
В книге подчеркивается, что исследование касается «образованного человека», - это является водоразделом?
В этот период у русского образованного человека была другая эмоциональная культура, чем у крестьян. Мне говорили, что я отказываю крестьянам в свободной жизни, - ничего подобного, просто у них были другие каналы. Конечно, русскому, французскому или английскому дворянину было легче понять эмоции друг друга, чем русскому дворянину - крестьянина. Они могли находиться на одном уровне, но в настолько разных культурных мирах, что образы чувств были разные.
Та модель, которую я строю, состоит в том, что эмоции - это прежде всего коллектив, потому что эмоциональные матрицы значимы для определенных групп людей, эмоциональных сообществ. Вопрос в том, что каждый человек принадлежит ко множеству разных эмоциональных сообществ. И поэтому эти системы всегда сложно устроены и ты маневрируешь среди разных сообществ, собираешь индивидуальную эмоцию из набора коллективных образцов. Поэтому здесь не может быть противопоставления, не может быть индивидуальной эмоции, в которой не было бы коллективного. Но она у тебя своя, потому что набор тех коллективных эмоций, которые ты приспосабливаешь к конкретной ситуации, всегда разный.
Андрей Зорин
Историк и филолог, специалист в области истории российской культуры и интеллектуальной истории, профессор МВШСЭН (Шанинка), Оксфордского университета (Великобритания), профессор кафедры гуманитарных дисциплин и научный руководитель программы Liberal Arts в Институте общественных наук РАНХиГС
- Когда человек читает историческую книжку, он же все равно знакомится с чужой интерпретацией истории? Все равно у автора есть своя позиция.
- В XIX веке возникла наука «критика источников», ставившая своей задачей сформулировать общие принципы подхода к источнику, позволяющие определять степень его достоверности. Примерно тогда же знаменитый историк века Леопольд фон Ранке сформулировал свой тезис, согласно которому задача историка - выяснить, как все действительно было. В последние десятилетия в исторической науке другой тренд - представление, что каждый источник есть в той или иной степени конструкция, написанная в чьих-то интересах. Известная формула: врет как очевидец. Юрий Николаевич Тынянов, великий русский филолог, сказал: документы врут как люди.
- История - это попытка контролировать прошлое?
- Да, это наша борьба с предками. Мы родились во время, которое нам задали, в обстоятельствах, которые нам задали, мы ничего в этом не можем изменить. Но мы берем реванш, рассказывая про предков истории, дополняя их, додумывая, - и через наши рассказы, басни и фантазии о том, что было, мы осуществляем свой контроль над ними.
- Идеология очень часто использует историю как оружие и пытается оправдать свои действия в настоящем, в прошлом. Так было всегда - или это приметы последних столетий?
Если мы говорим о государственных попытках монополизировать историю - они начинаются с момента, когда у государства возникает необходимость объяснить, откуда оно взялось и почему оно такое. Классический пример - история Смутного времени, рассказанная с воцарения династии Романовых. Появилась династия Романовых в 1613 году, после 700 лет предшествующей династии. Права ее на трон были весьма сомнительными, надо было выдумать яркую и убедительную историю, которая позволила бы им легитимизировать свои права на управление Россией. Им это в значительной степени удалось. В следующие 300 лет, до событий 1917 года, эта династия царствовала на русском престоле.
- Почему нужно именно с помощью прошлого оправдать настоящее? И почему этот прием работает? Какая мне разница, что, допустим, Иван Грозный происходит от какого-то племянника императора Августа?
- Каждый человек - это его история о самом себе. Мы приходим устраиваться на работу и говорим: я работал там-то тогда-то - наша биография объясняет, кто мы и что мы собой представляем. Любое сообщество людей, государство в том числе - оно таким же образом устроено, оно и есть собственная история. До Нового времени, как все хорошо знают, власть оправдывалась божественным происхождением. Значит, если твоя власть от Бога, то ты должен рассказать, каким образом Господь передал тебе эту власть. Я только что говорил о династии Романовых. Это характерная история. Пришли на Земский собор казаки и сказали: «Выбирайте Михаила Романова». С вооруженными казаками не больно поспоришь. Но когда Михаил воцарился, то эту историю потребовалось забыть. И была придумана очень красивая легенда, что всем боярам велели написать на бумажке имя будущего царя, они все написали, и у всех было одно и то же имя - Михаил. Конечно, только от Господа Бога могло идти такое невероятное совпадение, он над каждым стоял и это подсказывал; другого объяснения не может быть. То, что эта версия явно заимствована из истории про семьдесят толковников, никого не смущало. Священная история была абсолютным образцом даже не исторической, а трансисторической, внеисторической истинности, поэтому узнаваемость сюжета придавала ему достоверность.
- Получается, что создание мифов или фальсификаций начинается в истории России со Смутного времени, с начала Романовых. Первый миф как называется? Миф основания?
- Да. Это вполне распространенный научный термин. И это стандартная вещь. Все празднуют свой день рождения. Это значит, что ты заново переживаешь акт своего рождения. Семья празднует день свадьбы, день, когда она возникла, мы можем привести много подобных примеров. Государство встраивается в тот же ряд. Центральный миф всякого государства - это вопрос, откуда оно взялось, его миф основания. Оно придумывает себе исходную точку, из которой оно выросло.
- В таком случае XVII век обслуживает миф о том, как Романовы стали правителями. Что же происходит в XVIII веке, во время Петра?
- Гигантский слом, который производит с русским сознанием Петр I, приводит к колоссальной перемене исторической мифологии, причем начиная с его официальной титулатуры. Он назывался Первым, Петр I. До него русских императоров не считали. Задним числом присвоили цифру «четвертый» Грозному, но Грозный никогда не называл себя четвертым, он был просто «царь Иван Васильевич». Петр I называет себя Первым, и это не просто фиксация того, что на престоле России до него Петров никогда не было, но это вообще указание на то, что от него все идет. Из небытия в бытие произвели, говорил канцлер Головкин о России, и подобных цитат великое множество.
- Если Петр - это Новый Завет, то вспоминался ли старый, вспоминалось ли Смутное время, вспоминался ли Михаил Романов?
- Петр настолько фиксирует историческое русское сознание на себе, что указывать на другие значимые страницы в недавнем прошлом стало неинтересно. Все русские цари строят свою личную преемственность по отношению к Петру. Елизавета, которая была, как известно, незаконной дочерью, говорит, что она Петровна и дочь Петра; Петр III говорит, что до него были неизвестно кто, а он - внук Петра; Екатерина ставит Медного всадника и пишет на нем: «Петру I Екатерина II». Хотя никакого родства между ними не было, она вообще была узурпатором престола, но таким образом она опять вписывает себя в петровскую мифологию. И после ее смерти Павел вытаскивает старый памятник Растрелли и на нем пишет: «Прадеду правнук» - противопоставляя собственное родство с великим императором и нумерологию собственной матери (первый и вторая) и опять возводя свою легитимность к Петру.
- Получается, весь XVIII век существует сюжет возвращения к Петру, то есть возвращения к тому порядку.
- Да. Дело в том, что XVIII век - это бесконечная эпоха кризисов, переворотов, споров о престолонаследии, цареубийств. Петр ввел разрешение императору назначать себе наследника, и 75 лет русскую монархию трясло, пока Павел I, которого, впрочем, потом тоже убили, не ввел указ о единонаследии. Императоров делала гвардия, после переворота 1762 года Екатерина провозгласила, что она взошла на престол волей всех сословий, а особливо гвардейских: все равны, но некоторые равнее. И пока, собственно говоря, гвардия не была расстреляна пушками 14 декабря 1825 года на Сенатской площади, источником легитимности монарха была позиция гвардии и преемственность по отношению к создателю гвардии и современной России - императору Петру.

- На какие конкретно сюжеты вокруг Петра I больше опирались? Какие вещи выдумывали, какие, наоборот, предпочитали забывать?
- Прежде всего это победа в Северной войне, новые территории, выход к морю, строительство Петербурга и знаменитое переодевание дворянства. Петр создал в абсолютно неевропейской стране стопроцентно европеизированную элиту. Люди, которые за 100 лет научились выглядеть, думать и разговаривать как европейская аристократия. Когда русская армия в 1814 году взяла Париж, то у парижской публики было ощущение, что придут какие-то неописуемые варвары, в парижских газетах рисовали русских, у которых дым идет из ноздрей, и все были, конечно, поражены чистым французским языком русских офицеров.
Выходит, что Петр I и следующие за ним правители чувствовали себя европейцами. Появляется Екатерина II, идут бесконечные войны с турками, присоединение Крыма. И при Екатерине, получается, мы уже не совсем европейцы, а потомки греков.
Логика-то понятная. Европейская культура наследует Римской империи, Рим свою культуру взял у Греции, значит, к ним греческое наследие пришло опосредованно. А мы прямо у греков взяли и веру, и классическую культуру. То есть мы и есть центр европейской культуры, потому что мы связаны с ее колыбелью и главным очагом. Мы можем Европу перещеголять в европейскости.
Для Екатерины заново высвечивается мифология Владимира Святого: отсюда ее знаменитая поездка в Крым в 1787 году, присоединение Крыма, все потемкинские проекты будущего империи. И Потемкин пишет Екатерине, что если Петр добился таких успехов в петербургских болотах, то чего ж вы, государыня, добьетесь в таких прекрасных, Богом данных, благодатных местах, какие мы сейчас присоединили.
- Сначала идеология строится на том, что Европа - это здорово, а потом оказывается, что на самом деле мы даже лучше Европы, но во времена Наполеоновских войн самым важным сюжетом снова становится Смутное время. Почему так?
- Еще в 1760-е годы Екатерина писала, что Петр добился таких успехов, потому что применил европейские нравы в европейском государстве. То есть мы и так были европейцами, которых татары временно сбили с пути, но Петр вернул нас обратно на нашу историческую дорогу. Но кого Екатерина имела в виду? Речь шла исключительно о нескольких процентах элиты. К началу XIX века из Европы, опять же, приходит и пускает корни идея народности, что существует единый народ, у него есть единый дух, единая общая история, и что верхи русского общества, дворянство тоже должны в какой-то мере национализировать себя, проникнуться народным духом. И здесь история Смутного времени, ополчения Минина и Пожарского, оказывается необыкновенно удобной.
Мифологических героев антипольского движения было трое - патриарх Гермоген, Минин и Пожарский. То есть патриарх, представляющий церковь, простой человек Минин, из купцов, и князь Пожарский, представляющий дворянскую элиту, - они все объединились, и в результате этого народного единения появилась новая династия. То есть возвращение от петровской мифологии к мифологии Смутного времени - это попытка в какой-то степени расширить социальную базу государственной идеологии. В ходе Наполеоновских войн власти приходилось апеллировать к народным массам, нужна была мобилизация гораздо более широких слоев, чем те, к которым монархия обращалась до этого.
- То есть в мифе Смутного времени довольно важную роль играют интервенты, которые нас захватывают?
- Да. Давайте вспомним последнюю часть Смутного времени: Владислав, освобождение Москвы, пленение Минина и Пожарского. Россия тогда оказалась на грани гибели, потому что была захвачена поляками, - и во время Наполеоновских войн та же зараза, враг с Запада, то есть французы.

- Можно сказать, что это первый случай в истории, когда идеология заключается в том, что вокруг враги, мы окружены, еще к тому же внутри страны есть предатели.
- Война - важнейший способ исторического самоутверждения. В петровской мифологии победа над шведами играла огромную роль. Миф войны, врагов и победы древний - Владимир тоже воевал, в Крым ходил с походом. Но что теперь появилось нового - это мифология предательства. Важность концепта предательства, внутренней измены, очень тесно связана с совершенно новой, абсолютно западной идеей народа как единого тела. Народ - это есть единое тело, организм со всеми метафорами: у него есть голова - это обычно государь, у него есть сердце - это обычно церковь. А организм, соответственно, от чего погибает? Он погибает от заразы, которую кто-то приносит извне. И вот тема предательства возникает именно в это время.
- Рюриковичи правили Россией 700 лет. Это единственный случай, когда династия держалась так долго?
- Нет. Капетинги держались очень долго, а о китайских императорах и говорить нечего. Но 700 лет - все равно ужасно много, и внезапный обрыв династии - это, конечно, шок. Было несколько попыток это преодолеть. С Борисом Годуновым получилось плохо. Потом был Лжедмитрий - опять какая-то ерунда. Потом Василия Шуйского, одного из древнейших русских князей, поставили - снова не очень. Почему не получилось с Годуновым и с Шуйским? По общему мнению, потому что они были не царского рода. Своего другого царского рода у нас не было, зато имелся у поляков. Польскому королю Сигизмунду было предъявлено несколько условий, что его сын Владислав должен принять православие и приехать в Москву. И у Сигизмунда началось то, что Сталин впоследствии называл головокружением от успехов. И он, вместо того чтобы выполнять заключенный с ним договор, решил, что он Владислава в Москву не пошлет, переходить в православие он ему не разрешит, а будет сам в качестве короля управлять Московским царством в качестве своей провинции. Но у него не было политического ресурса, чтобы это осуществить, и это вызвало взрыв.
- Договаривались с боярами?
- С боярами, да. Было посольство, и заключил с ними договоренность боярин Филарет Романов, отец будущего царя Михаила Романова. Но договоренность не была выполнена со стороны Польши, и это вызвало протест, закончившийся вторым ополчением Минина и Пожарского. Но бояр назначить врагами не хотелось, поэтому придумали обвинить казака Ивана Заруцкого и еще несколько человек - в том числе князя Трубецкого, у которого было казачье войско. В основном среди казаков назначали предателей, и они были носителями польской заразы. Плюс, конечно, история Марины Мнишек и ее потрясающая судьба тоже на всех писавших эту легенду производила сильное впечатление. Оказалось, что полячка наших русских людей совершенно совратила. «Тарас Бульба» потом написан на эту же тему и так далее. Образ прекрасной и страшной полячки, которая соблазняет простого, незатейливого русского человека, в русской культуре очень значим.
- Кого назначили на роль предателя в 1812 году?
- Подходящая кандидатура уже здесь была, ею оказался Михаил Михайлович Сперанский, ближайший советник императора Александра I. Он был назначен агентом Наполеона, человеком, который хочет подкупить и погубить Россию и получить польскую корону. До этого одним из советников Александра был князь Адам Чарторыйский, он был действительно поляком, по крайней мере хотя бы понятна логика. Сперанский же был сыном православного священника. Его ненавидели как выскочку. Он был попович и стал главным министром и правой рукой императора.
- А кто выбирал эту жертву?
- Общественное мнение, большое количество дворян, которые его ненавидели с самого начала. Очень раздражало его низкое происхождение, его реформаторские планы. И плюс к тому он появился в ближайшем окружении императора после Тильзитского мира, который был воспринят как национальное унижение. Для простоты надо сказать - консервативно-дворянский лагерь, вероятно, во главе с адмиралом Шишковым его практически назначил предателем. И Александр, который, конечно, ни на грош не верил в версию предательства Сперанского, говорил: «Я должен был принести эту жертву». Впрочем, при таких-то обвинениях ссылка в Нижний Новгород и в Пензу - это еще была довольно мягкая мера.
- Скоро начинается война 1812 года, и искусство начинает вытягивать этот сюжет про Смутное время. Искусство придумывает этот миф или реагирует на него?
- Такие сильные исторические мифы - всегда коллективное творчество. Может быть, искусство его не придумывает, но в искусстве оно обретает ту отчетливость, выразительность и силу овладевать умами. Ставится памятник Минину и Пожарскому в Кремле, создаются театральные постановки. К 25-летию войны - опера Глинки «Жизнь за царя», в советское время получившая название «Иван Сусанин», и так далее. То есть весь этот ряд событий создает мифологический образ.

- Когда перед войной 1812 года в моду вошла русскость, нелюбовь к французам, интерес к Смутному времени, можно ли сказать, что это было в некотором роде даже оппозицией? Ведь официально Россия дружила с Францией в этот момент.
- Да, первоначально это была оппозиционная идеология, конечно. Более того, вплоть до Тарутинской битвы и ухода французов из Москвы, начиная с 1807 года, все время ходили слухи, что Александра вот-вот свергнут с престола. России было не привыкать к государственным переворотам, и у общественного мнения уже был кандидат на его место - это была великая княгиня Екатерина Павловна.
- Попрошу вас о коротком ликбезе. Что предшествовало войне 1812 года?
- Войне 1812 года предшествовало несколько войн, первая из которых кончилась страшным поражением в битве при Аустерлице, описанной в романе «Война и мир». После перемирия была еще одна война, менее катастрофическая, которая закончилась Тильзитским миром, страшно невыгодным для России. В результате Россия должна была примкнуть к континентальной блокаде Англии и принять условия Наполеона. Александр прекрасно знал, что это временно и что новой войны не миновать. Возвышение Сперанского с огромным количеством непопулярных мер, которые были приняты, тоже было связано с подготовкой к войне. Но это нельзя было объявить вслух. И Александру, и Сперанскому, который воспринимался как иностранный агент, противопоставлялась великая княгиня, у которой была прекрасная кредитная история, что к ней посватался Наполеон, и ее в панике выдали замуж за принца Ольденбургского. Утерли Наполеону нос, он не получил нашей замечательной княжны, и она воспринималась как главный центр патриотической партии. Великая княгиня при этом не говорила ни одного слова по-русски.
- Мы совершенно закопались в этом сюжете Смутного времени. Следующий миф основания - это Октябрьская революция?
- Да, конечно. Заново все меняется в XX веке после революции. И в этом смысле это очень похоже на петровскую революцию. Новая эра, создалось новое государство. До конца Советского Союза революция 1917 года в той или иной степени играет роль мифа основания.
- Довольно забавным образом праздник 7 ноября превратился в 4 ноября.
- Да, снова отсылка к Смутному времени, Дню национального единства.
- В Советском Союзе вспоминали о Смуте? Потому что она здорово ложится в сюжет Отечественной войны.
- Великая война начинается со страшного поражения, когда враг оказывается у столицы или к ней подступает. В 1612 году это поляки, в 1812 году это французы, сжигающие Москву, в 1941 году это немцы, которые подходят к Москве на ближайшее расстояние. И страна каждый раз оказывается на грани абсолютной гибели и тотальной катастрофы, из которой волшебным образом, божьим и чудесным произволением лидера, царя, главы ополчения, вождя, генералиссимуса и неизвестно кого, она заново возникает как феникс и поднимается к величайшей победе в своей истории. Здесь парность возникает на терминологии - «Отечественная война» и «Великая Отечественная война». То есть эта параллель - она возникает.
Готовы посмотреть вам в глаза в лучший день лета - 3 августа, на Пикнике «Афиши» . The Cure, Pusha-T, Баста, Gruppa Skryptonite, Mura Masa, Eighteen - и это только начало.
Реформы и перемены в образовании не прекращаются все последние годы. Есть ли у высшего образования в Росии будущее – об этом ПРАВМИР размышляет с доктором филологических наук, профессором Оксфордского университета (Великобритания), академическим директором программы Факультета государственного управления Академии народного хозяйства Андреем Леонидовичем Зориным.
– Андрей Леонидович, сейчас будет меняться министр образования, вместе с кабинетом министра, как всегда идет смена моделей и векторов развития образования. Что Вам сейчас представляется в целом в области высшего образования необходимым поменять в первую очередь?
– Ответ простой, и он заключен для меня в формулировке вашего вопроса: меняется министр, и поэтому жизнь в университетах замирает – все ждут, что будет.
Вот я работаю в английском университете и понятия не имею, кто в Великобритании министр образования. Ни фамилию не помню, ни как он выглядит, хотя в Британии была только что проведена монументальная реформа системы государственного финансирования высшего образования.
На мой взгляд, самая главная проблема современного высшего образования в России – это его невероятная зависимость от государства, от его политики, от стандартов, которые спускают сверху, от бюрократических правил и т.д.
Я считаю, что если не будет университетской автономии, причем не только частных университетов, но и государственных, если университеты по-прежнему остаются бюрократическим органом, то никаких содержательных реформ в области высшего образования ожидать не приходится.
– В чем должна, в первую очередь, состоять эта университетская автономия?
– Университет должен управляться независимым попечительским советом, в котором, конечно, органы государственного управления могут быть представлены (если это государственный университет), но только на правах одного из участников.
Перед таким советом обязан отчитываться ректор, прежде всего, по бюджетным вопросам. И такой же степенью автономии в сферах своей компетенции должны обладать подразделения внутри университета.
Автономией должны обладать не только несколько избранных университетов, которые сегодня с трудом выбили право формирования собственных учебных программ, собственных критериев кадровой политики и т.д.
Анахронизм и абсурд – наличие государственных ученых степеней, типа кандидата и доктора наук. Нигде в мире такой чепухи нет, чтобы государство присваивало кому-то ученую степень. Всюду люди являются докторами наук соответствующего университета. Присуждает степени конкретный университет.
– Наверное, есть некие плюсы в существующей унификации? Известно, что не во всех университетах все гладко с защитами диссертаций, на ряде кафедр работы из вака потом отправляются на прочтение в другие вузы…
– Практика доказывает, что государственная система контроля бессмысленна, не работает. От существования чудовищного числа регуляций и норм процент графоманских диссертаций и откровенного плагиата только возрастает. Это и понятно – люди, которых интересует наука, просто не хотят с этой процедурой связываться.
Да, случаи плагиата и защиты недобросовестных работ будут и при университетской автономии, но за это отвечать должно не государство, а университет, присуждающий степень, это позор на его репутацию. А министерство может, скажем, вывешивать тексты защищенных диссертаций в сети, чтобы каждый желающий мог проверить их на плагиат. Никакого государственного контроля больше не надо.
– Что в первую очередь надо менять в самом учебном процессе?
– То же самое. В основе учебного процесса тоже должен быть принцип максимальной автономии в выборе специализаций, составлении учебных программ, выборе преподавателей и пр. Пока я говорил о нем на самых верхних этажах – автономия ректора, университета, факультета, но он должен быть спущен по всей лестнице вплоть до преподавателей и студентов.
– И в чем это может проявляться?
– В частности, как мне кажется, студент должен обладать очень большой степенью свободы выбора специальности образовательных программ, желательно, внутри университета. Мы возлагаем на 16-ти-18-ти летнего человека непомерную ответственность. В 17 лет он должен определить весь свой путь, и ничего нельзя потом изменить.
На мой взгляд, студент, поступая в , как мне кажется, должен иметь возможность уточнить и переопределить свою профессиональную ориентацию, самому участвовать в выборе программы своего обучения и образовательных приоритетов.
– Так ведь студент может себе сформировать такой график, что ничего и делать не будет…
Ну, на это есть преподаватели и административные службы. Должны быть понятные критерии, алгоритм выбора курсов и дисциплин, рамки, в которых этот выбор является осмысленным. Именно их должны задавать университет и факультет, не государство, а именно университет и факультет, куда абитуриент поступает. И в разных университетах образовательные модели могут и должны существенно отличаться друг от друга.
Увы, нынешняя лекционно-экзаменационная система, когда студентов заставляют слушать одинаковые лекции в течение семестра, потом их заставляют судорожно что-то выучить перед сессией, потом они сдают экзамен и навсегда забывают все, что они выучили – вся эта система, на мой взгляд, не работает. Она не дает практически ничего и никому.
– Сейчас нет государственного заказа. Должен он быть? Почему он сейчас отсутствует?
– Во-первых, он есть – поскольку бюджетные места по университетам и специальностям определяет государство. А если вы о гарантированном распределении, то только его нам не хватает для полного счастья.
Рынок труда меняется с такой невероятной скоростью, что, поступая в университет на какую-то специальность, ты не можешь быть уверен, что эта специальность будет востребована через 4 года. Ты не можешь быть уверен, что она будет существовать вообще. Она может исчезнуть навсегда.
Вместе с тем, за жизнь каждого нынешнего молодого человека пройдет несколько волн появления новых специальностей, о которых мы пока даже не можем предположить, какие они, в чем они будут состоять.
Поэтому главное для человека, выходящего сегодня на рынок труда, это не набор специализированных навыков, которые он может применить в какой-то узкой области, а способы ориентации в существуемом мире, критическое мышление, способность переобучаться.
Для приобретения узкой специализации существует масса форм повышения квалификации. Например, должна существовать годичная магистратура: год человек может учиться на новую специальность, а четыре года он вряд ли будет учиться заново.
Соответственно, суть балакавриата, суть базового образования именно в том, чтобы дать знания, навыки и компетенции, чтобы человек мог ориентироваться на рынке труда.
В стандарте третьего поколения продекларирован компетентностный подход, но, по сути, он остается пока, к сожалению, формальным, поскольку продолжает господствовать принцип стандартизованной специализации.
– Вам не кажется, что компетентностный подход угрожает вообще самой идее университетского образования? Ведь отличие университетского преподавания от языковых курсов, например, состоит в первую очередь в том, чтобы дать широкую базу, кругозор, background. Компетенция – это набор конкретных практических навыков, skills, ориентированных на решение какой-то конкретной практической задачи.
– Необязательно практической задачи. Когда я общаюсь сегодня с молодыми людьми, я вижу, что они не обладают базовой функциональной подготовкой. Им трудно понимать текст и перерабатывать его в другой текст. Это фундаментальная компетенция, которой человек, закончивший бакалавриат, безусловно, должен обладать. Есть логическая компетенция – способность анализировать данные, способность рационально агрументировать, выстраивать свою мысль и пр.
Что же касается конфликта между универсальностью, широтой, глубиной и практико-ориентированностью, я думаю, что такого рода конфликт заложен в природе университетского образования. Более того, как мне представляется, если он будет решен в пользу любой из этих двух составляющих, университетское образование пострадает.
В нем всегда должен быть внутри этот конструктивный конфликт, потому что, если побеждает только ориентация на практику, на рынок, то, практически, сам университет исчезает. Но если университет ориентируется только на формирование знаний, не глядя на потребности окружающего мира, он постепенно вырождается.
Вот этот конфликт и есть продуктивный конфликт, который поддерживает тысячу лет университет как институцию, как организацию.

– ЕГЭ – это шаг к развалу образования или, на Ваш взгляд, к спасению?
– Не знаю. Я бы посоветовал Вам обсудить это с людьми, теснее связанными со школой.
– К нам поступают студенты, которые сдают теперь экзамены по-другому. Знают, сколько пуговиц на сюртуке у Чичикова…
– Я спокойно отношусь к ЕГЭ. Эта система меня не радует, результаты ее работы мне не нравятся. Но я знаю хорошо ту систему, которая предшествовала ЕГЭ – систему вступительных экзаменов. Я твердо уверен, что хуже ничего быть не может. Это так чудовищно, что никакой ЕГЭ на этом фоне уже ничего не испортит. Почему? Потому что это система институционализации коррупции в университете.
– А ЕГЭ не может перевести коррупцию из одной инстанции в другую – из университета в школу?
Может, хотя скорее не в школу, а в органы местного управления образованием. Вроде бы там есть хотя бы технология, с помощью которой с коррупцией можно бороться.
Но скажу цинично, потому что я нахожусь со стороны высшего образования, меня меньше волнует РОНО. Но коррупция в высшей школе, я её видел, я наблюдаю этот кошмар, от этого у меня болит сердце. Чиновник коррумпированный – это драма, а коррумпированный преподаватель – это трагедия.
ЕГЭ – довольно скверная система. Но вопрос в том, чем её заменить. Вернуться назад к вступительным экзаменам – вернуться к худшему. Скажем, например, то обстоятельство, что социальная мобильность людей с окраин резко увеличилась, даже при коррумпированных, плохо организованных ЕГЭ, означает, что какая-то цель уже достигнута. Поэтому вопрос, на мой взгляд, не в ЕГЭ.
Вероятно, можно продумать модель западного типа, где национальные тесты – один из факторов, важный, но не единственный. Идеальную систему точно нельзя сделать, но наверняка можно придумать модель лучше существующей.
– В Академии народного хозяйства каким образом происходит реформирование высшего образования, в чем состоит сегодня новизна того подхода, который предлагаете Вы?
– В Академии Народного Хозяйства происходит много всего. Я работаю на факультете государственного управления, и то, что мы стараемся там сделать – лишь часть общей картины.
Мы не ставим перед собой утопической задачи – поменять все и немедленно создать образовательную утопию, но мы рассчитываем серьезно продвинуться вперед и в тех рамках, в которых это возможно, здесь мы, собственно говоря, это уже делаем 3 года.
Здесь сложилась, на мой взгляд, группа единомышленников, мы примерно все понимаем (не скажу одинаково, но близко) свою задачу. Это понимание уточняется на протяжении уже трех-четырех лет в ходе непрерывных обсуждений и разговоров. И у нас есть представление о том, что образование высшее бакалаврского уровня надо двигать в тех направлениях, в которых я вам рассказывал.
Что оно должно быть более свободным, более открытым, более ориентированным на студента. Что количество аудиторных часов должно быть существенно уменьшено, количество самостоятельной работы должно быть резко увеличено. Но самостоятельную работу нужно проходить под руководством преподавателя, а не просто студент должен быть брошен на произвол судьбы и предоставлен самому себе.
– А как должна быть организована самостоятельная работа под контролем преподавателей?
– Во-первых, слава Богу, существует интернет. Студенту ничего не мешает прислать на электронную почту преподавателю свой текст. Преподаватель может его проверить, среагировать, написать, задать вопрос по интернету. Есть формы практической работы и отчета о них, возможно личное общение преподавателя с отдельным студентом или небольшой группой – он- или оффлайн.
Но и аудиторная работа может быть иначе устроена – студенты знают, когда они могут найти преподавателя, чтобы поговорить с ним, обсудить какие-то свои проблемы, вопросы, сложности. Это может быть полезно и для студентов, которые не справляются, и для студентов, которые так хорошо работают, что им интересно получать больше заданий.

Я не говорю, что надо отказаться от лекций. У лекционной формы есть свои важные функции, которые ни один другой образовательный формат реализовать не может. Но должно их быть гораздо меньше: 3-4 лекции подряд ни один нормальный студент слушать не может, это абсолютно контрпродуктивно.
Должен быть больше уклон на разговоры, на обсуждения, собственное участие в дискуссии, на семинары, причем семинары, может быть, только в небольших группах, где невозможно большинству отсидеться за спинами других.
Таких подходов я вам могу довольно много насчитать, мы их вырабатываем, и это, понимаете, вовсе не система каких-то готовых рецептов, «как всех осчастливить». Это то, что возникает в практической работе со студентами.
– АНХ уже какое-то время работает по системе бакалавриата-магистратуры. МГУ переходит со специалитета на бакалавриат-магистратуру, в Европе достаточно активно идет сопротивление этой двухступенчатой системе – выяснилось, что бакалавр особо никому не нужен. Для того, чтобы хорошо устроиться, нужно быть, как минимум, магистром…
Это совершенно не так. Я преподавал в Америке и в Европе, есть движения против реформы образования, но никак не за отказ от двухступенчатой системы. Вообще в магистратуру идет небольшая часть бакалавров, большинство из которых успешно находит себе работу.
Двухступенчатая система полностью себя оправдала на протяжении тысячелетней истории европейских университетов, и никто в Европе и не думает против нее протестовать. Многие процессы, происходящие сейчас в европейском образовании, вызывают сейчас протесты и студентов, и преподавателей, но к многовековой традиции двухуровневой системы это не относится.
Бакалаврское образование – это образование общее, универсальное, дающее человеку те фундаментальные способы ориентации в мире знаний, представлений, кругозора, компетенций, навыков, с которыми он будет жить. Магистратура – это специализированное образование в узкой области.
У нас переход к двухступенчатой системе делается так, что лучше вообще не переходить: от пяти лет отрезается один, пятилетняя программа искусственно вбивается в четыре, путем ее перенагружения. С чудовищным усилием ее надо запихать в этот «сапог», а потом …
– А потом не понятно, что делать еще два года.
– Да, а в Европе все происходит не так. Во-первых, ситуация, когда студент, окончив свой бакалавриат, поступает в ту же магистратуру на своем факультете – в США такого практически не бывает. В Европе это бывает, но это тоже не типичная ситуация. Ты окончил бакалавриат в одном месте, в другом – магистратуру, и чаще всего вообще по другой специальности.
Магистратура – значительно более прагматическая вещь. Поступая в магистратуру, ты должен знать, кем ты хочешь работать, что ты хочешь делать, какие тебе нужны навыки. При этом практическая магистратура, ориентированная на рынок труда, как правило, одногодичная. Двухгодичная магистратура, скорее, подготовка к исследовательской работе – начало аспирантуры. Вообще, я считаю, что двухступенчатая система намного гибче. Лучше, потому что гибче.
– А ведь у нас бакалавриат входит еще в бюджетное образование, а за магистратуру уже надо платить…
Есть и бюджетная магистратура, и она расширяется. В принципе, идея, что бакалавриат – это такое же образование, как раньше специалитет (тоже специализированная профессия, только похуже), конечно, бесперспективна. Мне кажется, что колоссальные проблемы, которые возникли у нас с переходом на эту систему, тоже результат ее насильственного внедрения сверху. Принятие ее автономными университетами заняло бы, конечно, намного больше времени, но было бы эффективней и осмысленней.
– Что за дисциплина – Liberal arts?
– Это не дисциплина. Это подход к образованию в бакалавриате. К сожалению, мы не нашли в русском языке правильного перевода, поэтому так и говорим. В России это часто переводят как «изящные искусства» – это вообще неправильно. Чтобы понять, до какой степени это неправильный перевод, достаточно сказать, что по принципу Liberal arts устроено образование в Вест Пойнте, Высшей военной академии Соединенных Штатов.
Liberal arts – это образование, основанное на принципе свободы выбора, на принципе гибкой (обычно двойной) специализации, определении специализации в процессе обучения, акцента на самостоятельную работу, элективы, индивидуального построения собственной образовательной траектории.
Эти принципы заложили основу того, что американское образование сегодня лучшее в мире. Американские университеты лидируют на рынке образования – все хотят учиться в Америке. Это все достижения последних 70-80 лет. До 1930-х годов XX века, на протяжении 500 лет, центром образования была Германия.
– Если сравнивать студентов одной специализации Московского университета и неплохих американских университетов, то я бы не сказала, что с огромным отрывом они лидируют. Как бы не наоборот.
– Вы знаете, почему-то студенты со всего мира не хотят учиться в московских университетах, все стремятся в американские университеты. В той области узкой специализации, под которую затачивает тот или иной факультет, может дать лучшую подготовку. Но как только нет спроса на эту, заданную тебе узкую специализацию, ты оказываешься беспомощным.
Американский выпускник может быть подготовлен в той или иной конкретной области чуть-чуть хуже, но зато он гибче, он видит поле, он способен быстро переучиться, овладеть массой других навыков, не говоря уже о второй специальности, полученной им здесь же в обязательном порядке, потому что с одной нельзя окончить университет. Но даже кроме этих двух, у него есть поле вариантов, где он сможет ориентироваться и дальше.
– И как же тогда «гибкие» выпускники американских вузов плавают в истории английского (!) языка, как наши первокурсники?
– История языка в американском и английском образовании – это, в основном, магистрантский и аспирантский уровни. Человек, который будет работать в области устного перевода, может обойтись без истории языка. Если он захочет стать лингвистом, он пойдет в магистратуру. Там первоклассные специалисты отлично обучат его истории языка.
Другое дело, что само по себе историческое языкознание – это дисциплина, сейчас не пользующаяся особой популярностью. В лингвистике есть спрос на другие области знания и проблемы. Но, в принципе, по-прежнему, конечно, возможность очень хорошо выучиться истории языка в американских университетах есть.
– То есть мы возвращаемся к вопросу, с которого начали: идет переход от широкой базы, широкого «background», который дается в самом начале студенту, к откладыванию этого «background» на потом.
– Нет, нет, я бы не сказал. Почему Вы считаете, что у студента-филолога российского, выучившего историю языка, «background» больше, чем у студента, условно говоря, закончившего по англистике Йель, который мог выбрать в качестве вспомогательных дисциплин экономику, право и политологию?
– У нас филологи тоже проходят политологию и экономику. Только вот если без знания политологии язык можно преподавать, то без знания истории языка преподаватель не ответит на вопрос, почему в английском языке такое колоссальное расхождение между орфографией и произношением.
– В общем, правильно, потому что, чтобы быть преподавателем, тебе бакалаврского образования недостаточно. Если ты только не хочешь ограничиться младшей школой – тогда тебе, конечно, тоже потребуется магистратура, но по детской психологии и педагогике.
А если ты, начиная от средней школы, и в старших классах хочешь преподавать, тебе нужно еще предметное магистрское образование. А если ты хочешь преподавать в университете, тебе нужно написать диссертацию. Так что нужные знания получить можно.
А если, скажем, идти в пиар или в медиа, то там эти вопросы тебе вряд ли зададут, а как раз общие представления о праве, политологии, экономике окажутся необходимы.
Так что я не думаю, что, реально говоря, «background» студентов Йеля ниже, чем студентов МГУ. Строго говоря, я думаю, что дело обстоит прямо наоборот.

Рейтинг – полезная вещь, если не относиться к нему маниакально. Если не считать, что то, что вуз поднялся с 17-го места на 12-ое – это победа, а если он опустился с 28-го на 39-ое – это какая-то глобальная катастрофа и что обязательно университет, стоящий на 17-ом месте лучше университета, стоящего на 22-ом.
Так подходить к рейтингам нелепо, тем более они разные и друг от друга отличаются. Но, в принципе, это вещь полезная, потому что она дает зону оценок. Мы понимаем, что, в целом, университеты, находящиеся в первой пятидесятке, сильнее университетов, не вошедших даже в 500. На этом уровне это работающая модель.
Устройство рейтингования немножко ориентировано в пользу университетов англоязычного мира. С другой стороны, этот угол зрения тоже отражает реальность. Мы знаем, где хотят учиться. На первом месте – Америка, по количеству иностранных студентов, на втором – Англия, на третьем – Австралия.
– Для гуманитариев это проблема, для меня тоже. Но рейтинги в принципе устроены не для гуманитариев, а для естественнонаучных областей.
Чтобы ученому написать математическую или биологическую статью для англоязычного журнала, ему не надо знать английский как родной. Человек с минимальным знанием языка сможет сказать то, что надо, и статью, если у нее есть научное содержание, опубликуют. Конечно, чтобы напечатать статью о литературе или об истории в англоязычном журнале, критерии знания языка более высокого уровня.
– Если говорить о российском в целом, Вы смотрите на него скорее оптимистично или пессимистично?
– Вы знаете, я в этих категориях не рассуждаю. Я считаю, что надо делать то, что ты считаешь правильным, а оптимизм или пессимизм держать при себе. Если ты работаешь, то надо работать. А дальше это все уже в Божьих руках, а от нас глобальный расклад не зависит. То есть чуть-чуть зависит, конечно. Поэтому стоит стараться.